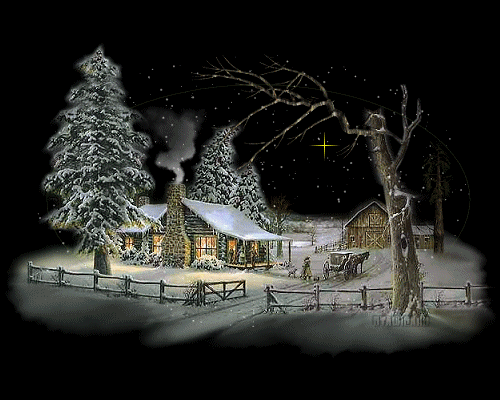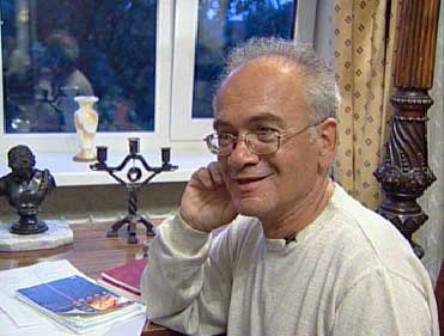Посвящается 125-й годовщине со дня рождения Осипа Мандельштама
Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!
Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!
А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом,
Да, видно, нельзя никак.
Все произошло абсолютно спонтанно. Слушал по радио Шуберта
(Арпеджионе, соната для виолончели и ф-но https://www.youtube.com/watch?v=NNcQuY1isEI).
Очень давно не слушал, много лет, и какая-то странная волна нахлынула,
и всплыли строчки из Мандельштама:
«И Шуберт на воде,и Моцарт в птичьем гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шопот
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты».
И хотя я думал о Шуберте, и о том, как, чуть ли не мимоходом, Мандельштам выявил сразу целиком всего Шуберта и Моцарта, я зацепился за строчки:
«Быть может, прежде губ уже родился шопот
И в бездревесности кружилися листы»,
Стихотворение – бездна.
О гениальных стихах можно говорить адекватно, только цитируя другие гениальные стихи.
Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме:
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».
Прежде губ уже родился шопот.
Или Гераклита, содателя идеи логоса, (откуда и пошло — «в начале было слово»):
«На входящих в те же самые реки притекают в один раз одни, в другой раз другие воды».
Что более знакомо всем как «все течет и все изменяется», или «нельзя войти дважды в один и тот же поток».
И опять к Шуберту и Моцарту. Когда-то давно, когда я это стихотворение впервые услышал, (прочесть не мог, в СССР Мандельштам впервые частично был издан только в 1973 году, Усатый таракан и его безусые последователи не разрешали), оно впечаталось в мой опыт навечно. И определило мое понимание Шуберта и Моцарта.
Мандельштам, этот тщедушный скворец, знал это уже изначально: Шуберт на воде и Моцарт в птичьем гаме.
Моцарт, Шуберт, да и сам Мандельштам как бы принадлежат природе, мирозданию, этому логосу — вечнотекущему и изменяющемуся миру, поэтому они так точно улавливают его музыку и гармонию:
«Что нужно кусту от меня?» у Цветаевой. (Стихотворение, которое опасно читать, столько в нем первобытного ужаса).
Цветаева, конечно, в этом списке, и Пушкин, Мусоргский, Есенин, Рафаэль, Ван Гог, Блок, Эдгар По, Гумилев, Верлен, Рембо, Моцарт, Шуберт, Мендельсон, Модильяни. , какой божественный список. Быстро Бог забрал их к себе.
Я болен мыслями, лечусь словами
но еще больше заболеваю.
Как в Песнь песней:
«Яблоком подкрепите меня,
Лепёшкою накормите меня,
Любовью я больна».
Но ничто не поможет мне, ни яблоко ни лепешка.
Литературоведение замечательная вещь, позволяет привести все в упорядоченную систему.
Все трое родились в январе. Моцарт – 27-го, Шуберт — 31-го, Мандельштам — 15-го. Это вносит определенную упорядоченность в изложение.
Вот, как раз, в России отмечается 125-летие со дня рождения Мандельштама, а в прошлом году отмечалось 120-летие со дня рождения Есенина.
Наверное, ни в одной стране у поэтов не было судеб более трагичных, чем в России.
Пушкин с Лермонтовым убиты на дуэли, Гумилев расстрелян, Маяковский застрелился, Есенин и Цветаева повесились, Мандельштам и Владимир Нарбут умерли в лагере. . Жуткий список.
Могилы Цветаевой, Мандельштама и Владимира Нарбута неизвестны.
«Над озером не плачь, моя свирель!
— Как пахнет милой долгая ладонь.
…Благословение тебе, апрель!
Тебе, небес козленок молодой!»
Все в том же птичьем гаме. Утоплен в барже или казнен в 1938 году. С Мандельштамом общая участь.
И опять к Моцарту в птичьем гаме. Неужели Моцарт, написавший трагический Реквием, Дон Жуана, (послушайте увертюру (https://www.youtube.com/watch?v=k5eC9Aa9T5c ), 20-й фортепианный концерт, в птичьем гаме?
Да, именно в птичьем гаме! И Шуберт тоже там — на воде и в птичьем гаме. Там они все . и Пушкин с таким трагическим «Борисом Годуновым» и сакральным «Пророком», и Рафаэль с «Сикстинской Мадонной».
У Давида Самойлова есть замечательное стихотворение о Пушкине, но оно подходит к ним ко всем:
«Но почему-то сны его воздушны,
И словно в детстве – бормотанье, вздор.
И почему-то рифмы простодушны,
И мысль ему любая не в укор».
И снова возвращаясь к строке «Быть может, прежде губ уже родился шопот»,
так на всю жизнь поразившей меня. У Мандельштама есть как бы ее продолжение.
“Silentium!”
«Останься пеной, Афродита,
И слово в музыку вернись,
И сердце сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!»
Поразительно, поразительно. К нему протянулась цепочка от Тютчева.
Еще раз, о гениальных стихах можно говорить только словами гениальных поэтов, потому что нас простых смертных язык бессилен:
Тютчев:
“Silentium!”
«Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?
Мысль изречённая есть ложь».
О, мистическое, божественное общение с помощью столь хрупкой и невнятной (Невнятности! наших поэм, Цветаева) субстанции как слово.
Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.
Не встретит ответа
Средь шума мирского
ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА
РОЖДЕННОЕ СЛОВО.
источник

«Играй же на разрыв аорты»
Стихи Мандельштам никогда не записывал. Он создавал их на слух, с голоса, а потом диктовал жене. У него было рукописей, блокнотов, не было даже почерка: «Я один в России работаю с голоса», говорил он.
Стихи начинались с внутренней звукоречи, с погудки, с музыкальной фразы, которая назойливо звучала у него в голове, пока постепенно не обретала плоть, не оформлялась в слова. Мандельштам отдавал слова во власть музыки.
И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гёте, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шопот
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.
Как и для Ахматовой, музыкальное детство Мандельштама было связано с Павловском, с его знаменитыми симфоническими концертами в помещении Павловского вокзала.
Павловский музыкальный вокзал
Свою мемуарную прозу «Шум времени» он не случайно открыл очерком «Музыка в Павловске». В 1921 году Мандельштам напишет стихотворение «Концерт на вокзале», где передаст свои музыкальные впечатления детства:
Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами,
Дрожит вокзал от пенья Аонид,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.
Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заворожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон:
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это — сон.
И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятеньи и слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках —
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах.
И мнится мне: весь в музыке и пене,
Железный мир так нищенски дрожит.
В стеклянные я упираюсь сени.
Горячий пар зрачки смычков слепит.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит!
На страницах «Листков из дневника» Ахматова заметила, что «в музыке Осип был дома».
По свежим музыкальным следам родилось и одно из воронежских стихотворений 1935 года «Скрипачка». Тогда давала концерт скрипачка Галина Баринова.
Наезды в Воронеж гастролёров весьма скрашивали ссыльную жизнь поэта. Он встречается там с известными пианистами Марией Юдиной, Григорием Гинзбургом и другими. Тогда-то Мандельштам и начал писать одно из своих самых знаменитых и виртуознейших стихотворений «За Паганини длиннопалым. ». Оно даёт возможность представить себе и ту пёструю программу концерта околовековой давности (1935). Многие его номера получили поэтическую аттестацию: длиннопалый Паганини, чалый Шопен, серьёзный Брамс.
За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой —
Кто с чохом чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской немчурой.
Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,-
Утешь меня игрой своей:
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.
Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом, нет, постой:
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой —
Вертлявой, в дирижерских фрачках.
В дунайских фейерверках, скачках
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель.
И — сюрреалистический финал, точно на бис, с его энергетикой и звуковым взмывом заключительного поэтического аккорда:
Играй же на разрыв аорты,
с кошачьей головой во рту!
Три чёрта было, ты — четвёртый,
последний чудный чёрт в цвету!
Когда-то Мандельштам сказал о Генрихе Нейгаузе вещие слова, полностью применимые к нему самому:
Не прелюды он и не вальсы,
и не Листа листал листы, —
в нём росли и переливались
волны внутренней правоты.
Поэт, художник всегда прав. При всех слабостях, грехах, ошибках он недосягаемо высок в своих чувствах и помыслах. У меня есть стихи о Мандельштаме, и там тоже слова о его музыке:
Я зароюсь в Мандельштама,
буду музыке внимать
и без прописей и штампов
этот мир воспринимать.
Мятой нот горчит и мучит
заресничная страна.
Бубенец, щегол, щелкунчик,
я навек тобой больна.
Музыка неудачи
Поэзия Бориса Поплавского может не понравиться тем, кто ждёт от поэзии конкретности, логической ясности.
Она неясна, невнятна, порой непонятна. Она наполнена фантастическими видениями чудовищ, лунных дирижаблей, безумных девушек, небожителей, бесов. И вся эта игра воображения, все эти то смутные, то яркие сны живут и движутся стихией музыки — это тот элемент его поэзии, который составляет её первичную природу, всё то, что невозможно передать простыми, разумными словами, что выше понимания рассудком.
Синевели дни, сиреневели,
тёмные, прекрасные, святые.
На трамваях люди соловели,
наклоняли головы пустые.
Поплавского называли первым русским сюрреалистом в поэзии.
Его поэзия — в тесном родстве с музыкой, ибо она, подобно музыке, внелогична. Мандельштам писал: «Останься пеной, Афродита, и слово, в музыку вернись». Так вот поэзия Поплавского — это то самое слово, вернувшееся в свою изначальную музыку. Стихи его — изысканно прелестные, утончённые, опьяняющие, с музыкальной сложностью, с подъёмом, переходящим в какой-то сверхмузыкальный полёт.
Восхитительный вечер был полон улыбок и звуков,
Голубая луна проплывала, высоко звуча.
В полутьме ты ко мне протянула бессмертную руку,
Незабвенную руку, что сонно спадала с плеча.
Этот вечер был чудно тяжёл и таинственно душен.
Отступая, заря оставляла огни в вышине,
И большие цветы, разлагаясь на грядках, как души
Умирая, светились и тяжко дышали во сне.
Ты меня обвела восхитительным медленным взглядом
И заснула, откинувшись навзничь, вернулась во сны.
Видел я, как в таинственной позе любуется адом
Путешественник-ангел в измятом костюме весны.
Гюстав Моро. Странствующий ангел
Музыка сопровождала Поплавского с детства. Отец его был дирижёром, мать играла на скрипке. В 1918 году, когда Борису было 16 лет, их семья эмигрировала во Францию. Поплавский был типичным представителем монпарнасской богемы — проводил ночи в парижских кафе, курил кокаин, жил на крохотное пособие, был нищим, безработным, но свободным и ничего не хотел менять в своей жизни.
Поплавский сознательно обрекал себя на «неуспех»: неудача для него в чём-то более музыкальна, чем удача. «Удаваться и быть благополучным мистически неприлично»,– писал он. Музыка для него определяет гармоничность жизни. Самосохранение, борьба за успех, за популярность для него антимузыкальны. (Нечто вроде пушкинского «служенье Муз не терпит суеты».)
Его нищета добровольна, ибо «погибающий согласуется с духом музыки». Сам мир, как он его понимает, оправдан только музыкой. Поплавский применяет это слово так, как употреблял его Блок.(«Эта чёрная музыка Блока»). За это слово настойчиво держались и Ходасевич, и Георгий Иванов. Но Поплавский сказал о музыке нечто такое, чего до него не сказал никто. Н. Берберова называла его «гениальным неудачником».
Выйди в поле, бедный горожанин.
Посиди в кафе у низкой дачи.
Насладись, как беглый каторжанин,
нищетой своей и неудачей.
Пусть за домом ласточки несутся.
Слушай тишину, смежи ресницы.
Значит, только нищие спасутся.
Значит, только нищие и птицы.
«В роскошной бедности, в могучей нищете/ живи спокоен и утешен»,– вспоминается воронежский Мандельштам. «Это я, обанкротившись дочиста, уплываю в своё одиночество»,– вторит им И. Елагин. Красота поражения. Роскошь нищеты. Музыка неудачи. «Сильным и сытым» хозяевам жизни, врастающим в неё «всеми четырьмя копытами», этого не понять.
Париж. 20-е годы. Русский квартал, улица Рю Бонапарт.
Париж стал для него второй родиной. Мы не встретим образа России в его стихах, словно написанных французом. Парижские бульвары, музыканты, фонари, вывески, манекены — всё это кружится в его стихах будто в замедленном ирреальном вальсе, в волшебном карнавале.
Первое стихотворение, сделавшее Поплавского популярным в эмигрантских кругах — «Чёрная мадонна». В 1927 году его на все лады повторяли не только в Париже, но и на Монпарнасах Праги, Варшавы, Риги:
. Загалдит народное гулянье,
Фонари грошовые на нитках,
И на бедной, выбитой поляне
Умирать начнут кларнет и скрипка.
И ещё раз, перед самым гробом,
Издадут, родят волшебный звук.
И заплачут музыканты в оба
Чёрным пивом из вспотевших рук.
И услышит вдруг юнец надменный
С необъятным клёшем на штанах
Счастья краткий выстрел, лёт мгновенный,
Лета красный месяц на волнах.
Вдруг возникнет на устах тромбона
Визг шаров, крутящихся во мгле.
Дико вскрикнет чёрная Мадонна
Руки разметав в смертельном сне.
И сквозь жар, ночной, священный, адный.
Сквозь лиловый дым. где пел кларнет,
Запорхает белый, беспощадный
Снег, идущий миллионы лет.
Поэзия Бориса Поплавского имеет какой-то обволакивающий, анестезирующий привкус и оттенок, будто это нескончаемо протяжная колыбельная песнь. Отсюда — одурманивающая музыкальность, облачность, туманность его лирики, в которой он будто растворяется. Реальные впечатления бытия смешиваются с мечтаниями и снами. Всё тонет, исчезает в стихии музыки, духовный план смешивается с астральным.
Рождество, Рождество! Отчего же такое молчание?
Отчего все темно и очерчено четко везде?
За стеной Новый год. Запоздалых трамваев звучанье
Затихает вдали, поднимаясь к Полярной звезде.
Как все чисто и пусто! Как все безучастно на свете!
Все застыло, как лед. Все к луне обратилось давно.
Тихо колокол звякнул. На брошенной кем-то газете
Нарисована елка. Как странно смотреть на нее!
Тихо в чёрном саду, диск луны отражается в лейке.
Есть ли ёлка в аду? Как встречают в тюрьме Рождество?
Далеко за луной и высоко над жесткой скамейкой
Безмятежно-нездешнее млечное звезд торжество.
Ритмы его поэзии превращаются моментами в настоящие заклинания, невольно поддаёшься этой стихии, её магическому воздействию.
… В черном парке мы весну встречали,
Тихо врал копеечный смычок.
Смерть спускалась на воздушном шаре,
Трогала влюбленных за плечо.
. Напевают цветы в саду.
Оживают статуи душ.
И как бабочки из огня
Достигают слова меня.
Верь мне, ангел, луна высока,
Музыкальные облака
Окружают ее, огни
Там звучат и сияют дни.
Синий ангел влюбился в весну.
Черный свет отойди ко сну.
Прозябание полюби.
Погибание пригуби.
Спать. Уснуть. Как страшно одиноким.
Я не в силах. Отхожу во сны.
Оставляю этот мир жестоким,
ярким, жадным, грубым, остальным.
Борис Поплавский умер 9 октября 1935 года при невыясненных, загадочных обстоятельствах. Официально смерть наступила от передозировки наркотиков. Но до сих пор неясно, что это было: случайная гибель, добровольный уход из жизни или убийство.
Течёт судьба по душам проводов,
Но вот прорыв, она блестит в канаве,
Где мальчики, не ведая годов.
По ней корабль пускают из бумаги.
Я складываю лист — труба и ванты.
Ещё раз складываю — борт и киль.
Плыви, мой стих, фарватер вот реки,
Отходную играйте, музыканты.
Прощай, эпическая жизнь,
Ночь салютует неизвестным флагом
И в пальцах неудачника дрожит
Газета мира с траурным аншлагом.
И вместе со смертью Поплавского умолкла та последняя волна музыки, которую из всех своих современников слышал только он один. Ушёл вместе с ним тот неповторимый мир — мир флагов, морской синевы, матросов, ангелов, снега и тьмы. И никто не вернёт нам ни одной ноты этой божественной музыки. Но он успел сделать главное дело поэта — создать кусочек вечности ценой гибели всего временного, в том числе и собственной смерти.
Розовый ветер зари запоздалой
ласково гладит меня по руке.
Мир мой последний, вечер мой алый,
чувствую твой поцелуй на щеке.
Тихо иду, одеянный цветами,
с самого детства готов умереть.
Не занимайтесь моими следами.
Ветру я их поручаю стереть.
Подслушать у музыки что-то
Когда-то Анна Ахматова написала теперь уже всем известные слова:
Подумаешь, тоже работа, —
Беспечное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за свое.
Итак, музыка — как один из стихотворных импульсов. Однако у Ахматовой исходная музыкальность окрашена в иные тона, чем у её предшественников. Это не блоковская музыка сфер с её мистическим налётом и не пульсирующий звуковой поток, окрашенный бурным воображением, как у Пастернака и Мандельштама, чьи стихи имеют музыкальную природу. Музыка в стихах Ахматовой — это музыка как таковая, её реальное звучание, окружающее лирическую героиню.
Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.
Для Ахматовой музыка — только повод, таинственный намёк, ведущий к стихам.
Вот два стихотворения 1921 года, объединённые названием: «Другой голос» с характерной пометкой автора: «Стихи на музыку, слышанную во сне».
Стихотворение «Отрывок», в черновом автографе которого есть запись: «Москва, Набережная, 21 июня, 1959. Троица (Шуман, «Юмореска», играет Святослав Рихтер). — Это музыка, которой были навеяны эти строчки:
. И мне показалось, что это огни
Со мною летят до рассвета,
И я не дозналась — какого они,
Глаза эти странные, цвета.
И все трепетало и пело вокруг,
И я не узнала — ты враг или друг,
Зима это или лето.
А. Ахматова и А. Найман в Комарово
Строки эти родились под прямым впечатлением от «Юморески», и тому есть свидетельство театроведа В. Виленкина: «Я любил незаметно смотреть на неё, когда она слушала музыку. Внешне как будто ничего в ней не менялось, а вместе с тем в чем-то неуловимом она становилась иной: также просто сидела в кресле, может быть, только чуть-чуть прямее, чуть-чуть напряженнее, чем обычно, и что-то еще появлялось незнакомое в глазах, в том, как сосредоточенно смотрела куда-то прямо перед собой. А один раз, когда мы с ней слушали в исполнении Рихтера шумановскую пьесу с обманчивым названием «Юмореска» (кажется, один из самых бурных полетов немецкой романтики), я вдруг увидел, что она придвигает к себе мой блокнот, берет карандаш и довольно долго что-то записывает; потом отрывает листок и спокойно прячет его к себе в сумку. Когда музыка кончилась, она сказала: «А я пока стишок сочинила». Но так тогда и не показала и не прочла, а я не осмелился попросить. Но потом несколько раз читала это стихотворение и у меня, и у себя, и всегда с предисловием: «Вот стихи, которые я написала под музыку Шумана«.
И музыка со мной покой делила,
Сговорчивей нет в мире никого.
Она меня нередко уводила
К концу существованья моего.
Еще одно стихотворение «под музыку» — под «Венгерский дивертисмент» Шуберта — стихотворение «Пятая роза«.
Ты призрачным сияла светом,
Напоминая райский сад,
Быть и Петрарковским сонетом
Могла, и лучшей из сонат.
В её записной книжке 1961 года можно прочесть: «Вчера вечером слушала бразильскую бахиану. Я что-то сочиняла, но в темноте не могла записать и забыла. Кажется. » Вот каким стихотворением мы обязаны этой случайной встрече поэта с Э. Вила Лобосом и певицей Галиной Вишневской:
Женский голос как ветер несется,
Черным кажется, влажным, ночным,
И чего на лету ни коснется —
Все становится сразу иным.
Заливает алмазным сияньем,
Где-то что-то на миг серебрит
И загадочным одеяньем
Небывалых шелков шелестит.
И такая могучая сила
Зачарованный голос влечет,
Будто там впереди не могила,
А таинственный лестницы взлет.
По словам того же В. Виленкина, «с музыкой, которая однажды попадала в ее стихи, Анна Андреевна вообще потом уже не расставалась. За пластинкой с записью предпоследней фортепьянной сонаты Бетховена, ор. 110 она даже как-то заехала ко мне в час ночи, по дороге домой откуда-то из гостей. Это было после ее встречи с Г. Г. Нейгаузом, который рассказал ей «все об этой сонате» и произвел на нее большое впечатление своей игрой«.
Потом эта соната оживёт в её стихотворении «Зов»:
В которую-то из сонат
Тебя я спрячу осторожно.
О! как ты позовешь тревожно,
Непоправимо виноват
В том, что приблизился ко мне
Хотя бы на одно мгновенье…
Твоя мечта — исчезновенье,
Где смерть лишь жертва тишине.
В этом же цикле «Полночные стихи» Ахматова вводит в свой «музыкальный обиход» имя еще одного композитора. 29 августа 1963 года она слушает по радио Адажио Вивальди.
Не на листопадовом асфальте
Будешь долго ждать.
Мы с тобой в Адажио Вивальди
Встретимся опять.
Снова свечи станут тускло-желты
И закляты сном,
Но смычок не спросит, как вошел ты
В мой полночный дом.
Цикл «Полночные стихи» вообще богат звуковыми ассоциациями. В «Предвесенней элегии» —
Меж сосен метель присмирела,
Но, пьяная и без вина,
Там, словно Офелия пела
Всю ночь нам сама тишина.
Она сберегала музыку в себе, и музыка вела ее по лабиринтам памяти. Только с помощью неведомых законов творчества можно было подслушать у Шопена то, что записано строчками 1958 года:
Опять проходит полонез Шопена.
О, боже мой! — как много вееров,
И глаз потупленных, и нежных ртов,
Но как близка, как шелестит измена.
Тень музыки мелькнула по стене,
Но прозелени лунной не задела.
О, сколько раз вот здесь я холодела
И кто-то страшный мне кивал в окне.
Ахматова многие свои стихотворения обозначает как песенки. Это и две песенки из цикла «Шиповник цветет«, и «Песенка слепого» из незаконченной пьесы «Пролог«, и целый цикл из четырех стихотворений, так и названный «Песенки». Наконец, «Песенка», опубликованная лишь в 1969 году с откровенно фольклорным колоритом:
А ведь мы с тобой
Не любилися.
Только всем тогда
Поделилися.
Тебе — белый свет.
Пути вольные,
Тебе зорюшки
Колокольные,
А мне ватничек
И ушаночку.
Не жалей меня,
Каторжаночку. —
стихи, близкие к народным песням, причитаниям.
На музыкальность «Поэмы без героя» обращали внимание неоднократно. «Построена поэма симфонически, — писал К. Чуковский, и каждая из трёх её частей имеет свой музыкальный рисунок, свой ритм...» В «Поэме. » Ахматова пишет и о знаменитой Седьмой симфонии Шостаковича:
Здесь под музыку дивного мэтра —
Ленинградского дикого ветра
И в тени заповедного кедра
Вижу танец придворных костей…
Создавая портрет эпохи, Ахматова вслушивалась в музыку времени — прошлого, настоящего и будущего.
И уже, заглушая друг друга,
Два оркестра из тайного круга
Звуки шлют в лебединую сень.
А музыке нас птицы научили
Хотелось бы напоследок сказать несколько слов о музыке современной поэзии. Поэт, которого я очень люблю — Александр Кушнер.
Многим известна песня на его стихи «Времена не выбирают». Надо сказать, Кушнер не любит, как это ни странно, когда его стихи перекладывают на музыку. Он считает, что стихотворение — уже само по себе музыка, и в дополнительной музыке не нуждается. И говорит об этом в одном из своих стихов:
Еще чего, гитара!
Засученный рукав.
Любезная отрава.
Засунь ее за шкаф.
Пускай на ней играет
Григорьев по ночам,
Как это подобает
Разгульным москвичам.
А мы стиху сухому
Привержены с тобой.
И с честью по-другому
Справляемся с бедой.
Дымок от папиросы
Да ветреный канал,
Чтоб злые наши слезы
Никто не увидал.
Стихи, где он противопоставляет музыке мелодраматической, разгульно-расхристанной, демонстративной — музыку скрытую, потайную, сквозь сдержанные невидимые миру слёзы, когда из глаз не слёзы, а музыка льётся.
Не спрашивай только, о чём
плачут: любовь ли, обида ли жжётся земная —
просто стоят, подпирая пространство плечом,
музыку с глаз, словно блещущий рай, вытирая.
Музыка в поэзии Кушнера не показная, не явная, ненавязчивая. Но она есть, чем-то напоминающая пастернаковскую мелодию:
Ну, музыка, счастливая сестра
Поэзии, как сладкий дух сирени,
До сердца пробираешь, до нутра,
Сквозь сумерки и через все ступени.
Везде цветешь, на лучшем говоришь
Разнежившемся языке всемирном,
Любой пустырь тобой украшен, лишь
Пахнет из окон рокотом клавирным.
И мне в тени, и мне в беде моей,
Средь луж дворовых, непереводимой,
Не чающей добраться до зыбей
Иных и круч и лишь в земле любимой
Надеющейся обрести привет
Сочувственный и заслужить вниманье,
Ты, музыка, и подаешь нет-нет
Живую мысль и новое дыханье.
А песни на стихи Кушнера всё-таки вопреки его неудовольствию пишут. И очень даже неплохие. Вот, например, как эта, А. Дулова:
Не знаю, кто таинственным стихам,
А музыке нас птицы научили.
По зарослям, по рощам, по кустам —
И дырочки мы в дудке просверлили.
Как отблагодарить учителей?
Молочная твоя кипит наука,
О, пеночка! За плеск восьмых долей,
За паузы, за Моцарта, за Глюка.
Не знаю, кто стихам — так далеко
Туманное и трудное начало.
Пока ты пела в роще — молоко
На плитке у хозяйки убежало.
Стихи никто не пишет, кроме нас.
В них что-то есть от пота, есть от пыли.
Бессмертные, умрут они сейчас.
А музыке нас птицы научили!
Все разрешится чистым ЛЯ
Она имеет к музыке помимо косвенного и прямое, непосредственное отношение: Лариса долгие годы преподавала музыкальную гимнастику по системе русской танцовщицы Л. Н. Алексеевой.
Потому её обращение к музыке, которой так много в её стихах, обусловлено не только позицией, но и специальностью:
Музыка, музыка, музыка, мука —
Древняя тайна рождения звука,
Что существует, в пространстве кочуя,
Мучая душу и душу врачуя.
Музыка, музыка, форте, пиано —
Ты и бальзам и открытая рана,
Промыслы Бога и происки черта.
Музыка, музыка, пьяно и форте.
А закончить мне хочется вот этими строчками Миллер, дарующими нам утешение и надежду:
Все разрешится чистым ЛЯ,
Все разрешится.
Ложатся под ноги поля —
Полынь, душица.
Садится бабочка на грудь,
И гнется стебель.
Все разрешится где-нибудь —
Не здесь, так в небе.
Будем на это надеяться и уповать. Что музыкально разрешатся наши муки, тревоги, страдания, тоска, одиночество. Не здесь, так в небе.
источник
«Ленинград»: анализ стихотворения (Мандельштам). Анализ стихотворений Мандельштама: «Бессонница», «Вечер нежный», «Век», «Notre Dame»
Осип Мандельштам – один из ярчайших представителей поэтов Серебряного века. Его вклад в развитие русской литературы ХХ века сложно переоценить, а трагическая судьба никого не оставляет равнодушным.
Сам по себе увлекателен и интересен анализ стихотворения. Мандельштам к тому же раскрывает в своей лирике мир акмеистов, их отношение к поэзии и художественную направленность. В статье будут рассмотрены самые известные произведения писателя: «Ленинград», «Бессоница», «Вечер нежный», «Век» и «Notre Dame».
Родился будущий поэт в 1891 г. в варшавской купеческой семье, которая в 1897 г. переехала в Петербург. Здесь Осип Эмильевич заканчивает Тенишевское училище. После чего едет в Париж, посещает лекции в Сорбонне, занимается в Гейдельбергском университете.
В 1910 году впервые публикуются его стихотворения в журнале «Аполлон». За год Мандельштам становиться своим в литературной среде, при этом тяготея к идеям акмеистов. В 1913 году писатель публикует первый сборник стихов – «Камень».
Жизненный путь поэта оканчивается в 1938 году, когда он был репрессирован и сослан в Воронеж. Скончался Мандельштам в ссыльном лагере и был погребен в братской могиле.
Помогает раскрыть внутренний мир и особенности мировоззрения поэта анализ стихотворения. Мандельштам в этом отношении открывает читателю свою точку зрения на то, что происходило в начале ХХ века в России, и чему он сам был свидетелем.
Поэтический путь Мандельштама начался в 14 лет, когда были написаны первые стихи. С этого момента начинается ранний период творчества, характеризующийся пессимизмом и поиском смысла жизни. Первоначально Мандельштам был увлечен идеями символистов и обращался в своей поэзии к музыкальным образам и мотивам. Однако знакомство с акмеистами резко изменило идеи и тональность лирики поэта. В таких произведениях, как «Природа – тот же Рим…» начинают встречаться архитектурные образы, что подтверждает анализ стихотворения. Мандельштам понимает развитие цивилизаций как непрерывный постоянный процесс, где культурное наследие (в том числе и архитектура) отражает перемены и воззрения народов.
Чтобы понять и осмыслить особенности лирики Мандельштама, необходимо обратиться к анализу его программных стихотворений.
Анализ стихотворения «Ленинград» Мандельштама можно начать с описания сюжета. Лирический герой возвращается в город своего детства – Ленинград. Здесь он нашел свое призвание, обрел друзей, со многими из которых уже не может встретиться. Его связь с городом настолько сильна, что сравнима с кровными и плотскими узами: «до прожилок, до детских припухших желез». Это связь с пространством Ленинграда: «жир ленинградских речных фонарей», «к зловещему дегтю подмешан желток» (метафора, описывающая пасмурное небо и тусклый солнечный свет). Но наиболее сильны дружеские узы: «у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса». Но какой бы сильной не была связь лирического героя с городом, существуют те, кто может легко ее разорвать – «гости». Они приходят по ночам без приглашения и забирают с собой родных и близким. Их приход равносилен смерти, так как те, кого они уводят, больше не возвращаются.
О невероятно тревожном времени говорит анализ стихотворения «Ленинград» Мандельштама. Автор отлично передал нарастающую тревогу, отсутствие какой-либо защиты от творящегося вокруг произвола и безнадежность будущего.
Это одно из выразительнейших и ужасающих произведений, которые написал Мандельштам. Анализ стихотворения «Век мой, зверь мой…» во многом отражает те же переживания об утрате привычного спокойного мира, что и предыдущий стих.
Свой век Мандельштам сравнивает со зверем безжалостным и необузданным, который сломал позвоночник налаженного мироустройства и не может исправить этого, с тоской оглядываясь на прошлое. Поэт тонко чувствует всю трагедию происходящего и пытается своим искусством (которое олицетворяет флейта) связать позвонки, но нет времени, и сил одного человека недостаточно. И продолжает течь «кровь-строительница» из ран страны. Образ века-зверя заключает в себе не только необузданность, но и беспомощность: перебитый хребет мешает ему обрести былую силу, остается только смотреть «на следы своих же лап». Таким образом, болезненно, тяжело и трагически переживает революционные события и смену власти Мандельштам.
В основу произведения легла вторая песнь гомеровской «Илиады» — «Сон Беотия, или Перечень кораблей», где перечисляются все корабли и полководцы, которые отправились на Трою.
Начало стихотворения – слово «бессонница», которое описывает физическое состояние героя. И сразу поэт погружает читателя в древнегреческий миф: «Гомер. Тугие пару…». Бесконечно тянущиеся корабли, как бесконечная ночь, мучающая и не позволяющая заснуть. Образ журавлиного клина только усиливает неспешность и растянутость пространства и времени, которые стремится подчеркнуть Мандельштам. Анализ стихотворения «Бессонница» отражает плавное течение времени и мыслей лирического героя. От описания кораблей он переходит к размышлению о цели древней войны. Огромным воинством движет любовь: «Куда плывете вы? Когда бы не Елена, что Троя вам, ахейские мужи. И море, и Гомер – все движется любовью». Следующая строка возвращает в реальность, в настоящую для лирического героя эпоху: «Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит».
Любовь – вот главная движущая сила, которая остается неизменной с древних времен по сей день, – такое мнение высказал в этом стихотворении Осип Мандельштам.
В стихотворении описывается один из пикников на берегу Средиземного моря, на которых Мандельштам был частым гостем во времена учебы в Сорбонне. Это произведение резко выделяется на фоне всего творчества поэта своей радостью, счастьем и беззаботным розовым светом. Поэт выступает романтиком, рисует прекрасную пейзажную картину, наполненную звуками, запахами и яркими красками. Девятнадцатилетний писатель счастлив, он ощущает свободу и безграничность своих возможностей, весь мир открывается перед ним. Поэт открыто высказывает свое мнение, в нем нет страха и боязни навлечь на себя беду (какие появляются в более позднем творчестве).
После возвращения в Россию никогда уже не напишет столь радостных строк Мандельштам. Анализ стихотворения «Вечер нежный» раскрывает жизнерадостную, жаждущую свободы и жизни душу писателя.
Стихотворение «Notre Dame», как и предыдущее, основано на тех впечатлениях, которые оставила о себе учеба во Франции. Мандельштам много путешествовал в этот период и был потрясен видом Собора Парижской Богоматери. Именно этому архитектурному памятнику посвящено стихотворение. Невероятно метафорично и чувственно описывает здание Мандельштам. Анализ стихотворения «Notre Dame» раскрывает красоту собора, сравниваемого с живым существом: «играет мышцами крестовый легкий свод». Поэт испуган и восхищен зрелищем, он проникается красотой и величием строения и постепенно признает его красивейшим в мире.
Первой же строкой Мандельштам обращается к истории создания Собора: «Где римский судия судил чужой народ». Возникающая римская тема необходима для того, чтобы показать связь архитектуры и культурно-исторического развития народов.
Восхищается и удивляется способностями древних зодчих Мандельштам. Анализ стихотворения «Notre Dame» можно свести к описанию контрастов, на которых построено все произведение: «легкий свод» — «масса грузная стены», «египетская мощь» — «христианская робость», «дуб» — «тростинка». В сочетании противоречивых чувств, несхожих материалов и разных подходов к изображению скрыта красота как самого собора, так и стихотворения поэта.
Таким образом, раскрыть авторскую позицию, понять душу, мировоззрение и настроение поэта поможет простой анализ стихотворения. Мандельштам, несомненно, — один из интереснейших и необычнейших поэтов Серебряного века, чье творчество восхищает, притягивает и завораживает.
источник
Л юбить и понимать — это совершенно разные состояния души. Когда любишь, то менее всего понимаешь, а скорее удивляешься, как ЧУДУ, всему, что видишь, слышишь, осязаешь. Когда любишь — скорее принимаешь, чем понимаешь, решаешься войти и одновременно впустить в себя, решаешься «записать» на языке мгновений то, что удерживает рождение и смерть от неизбежного, казалось бы, слияния.
Если суждено было полюбить, то никогда уже тебе не спутать вязкой повседневности с ощущением полноты бытия, до которого надо ежесекундно тянуть все эти приобрел, использовал, выбросил, приобрел.
В детстве, года в три-четыре, мои родители довольно часто читали мне перед сном при свете настольной лампы с зеленым абажуром сказки и стихи. Самые драгоценные из них: потрепанный еще моим папой «Доктор Айболит» 37-го года издания с именем автора — Гью Лофтинг — и самым точным на свете изображением Бармалея да еще едва ли не единственная уцелевшая из маминой библиотеки книга — первый том собрания сочинений М. Ю. Лермонтова.
По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.
— Мама, скажи, а Наполеон был наш враг?
— Да.
— А Гитлер тоже наш враг?
— Конечно, сынок.
— А почему же мне Наполеона так жалко, а Гитлера ну ни капельки.
С тех пор я прочел и услышал много стихов, но ни один из них, наверно, не ранил меня сильнее. Одно время я даже боялся открывать Лермонтова и перечитывать эти стихи, которые до сих пор звучат для меня как один из самых точных камертонов в мире поэтических свершений. Иногда мне кажется, что отдельные строки этого стихотворения — «. Зовет он любезного сына, // Опору в превратной судьбе; // Ему обещает полмира, // А Францию только себе. » — и есть то, в чем я на самом деле живу.
Помните: Поэт! не дорожи любовию народной. или еще более однозначно:
. Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Открытую ясность этих стихов не любили обсуждать на уроках литературы в средней школе, потому что надо было доказывать, что речь не о той толпе, которая всюду, которая равнодушно живет в одном с тобой доме, идет навстречу тебе, медленно перетекает из вагонов на эскалатор и на улицу так, что если случай неосторожно сольет несколько транспортных потоков в один, то произойдет то же самое, что на Неглинке в день похорон Сталина. Толпа, частью которой иногда с отвращением сам себя сознаешь. Да, толпа со времен Пушкина изменилась — она стала безразличнее к отдельному человеку, и любое собрание людей благодаря средствам массовой информации теперь легче превратить в толпу. Вирус толпы под видом безразличия ко всему и вся пробрался даже в отдельную семью, и можно сказать, что современный человек, несмотря на лавину проходящей сквозь него информации, хуже понимает, что такое он сам и мир, в котором он живет. Россия, кроме того, оказалась страной, уничтожившей большее количество своих соотечественников, чем все другие страны вместе взятые.
. И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечные пропасти, к недоступной Весне.
В литературе «второе царствие» толпы началось с «затмения Пушкина», о котором писал Ходасевич в «Колеблемом треножнике» и которое произошло в двадцатых-тридцатых годах, когда «грамотеющее с наганами племя пушкиноведов» на фоне участившихся пушкинских праздников спокойно погубило или выбросило из страны тех, кто собирался аукаться в надвигающемся мраке «веселым именем Пушкина». Можно сказать, слегка перефразируя Блока, что толпа с тех пор не перестает лопать поэтов, как гугнивая чушка своих поросят. Причем имена тех, кого просто убивают, тщательно смешивают с именами тех, кого по стилистическим причинам решают оставить в живых, добавляя по прошествии некоторого времени к истинным поэтам и громких бездарей, и тихих «талантливых стихотворцев». Поэтому неудивительно, что на фоне «оттепели» возникла волна не чтения вслух со сцены («мы только с голоса поймем, что там царапалось, боролось. «), а ЭСТРАДНОЙ лирики, хотя противоположностью поэта, по точному замечанию Мандельштама, является именно артист с его неуемной жаждой лицедейства и выразительности. Но для современного читателя поэзии опасны не только эстрадность и вкусовая неточность каких-нибудь легко появляющихся на экране Евтушенко или Пригова, многочисленные духовные дети которых легко и радостно придут им на смену из литературных «тусовок» обеих столиц, и не то, что расползающимся по стране «новым русским» с их ставкой на уголовщину попросту наплевать на великую русскую поэзию XX века. Нет, опаснее для искусства стоящий в позиции учителя и комментатора филолог, путающий (смотри выше) глаголы любить и понимать, потому что ему ВЫГОДНО не пытаться восстановить иерархию духовных ценностей , а сотворить что-нибудь подобное поэтическому альманаху «Арион».
Конечно, и структурный анализ, и историческое литературоведение многое проясняют, особенно в восстановлении фактологического материала из жизни поэта, но примечателен и тот факт, что в процессе анализа образной системы почти любой современный литературовед не выверяет сам список анализируемых произведений и не чувствует различия между сильными ассоциативными связями и второстепенными. А ведь если не различать сильных и слабых стихотворений, то анализ творчества Багрицкого, Цветаевой или Бродского вообще невозможен, а, скажем, Пастернака, Тарковского или Мандельштама — неверен как раз в тех мелочах, которые могут оказаться существеннее легко различимого целого. Так, например, во вступительной статье С. Аверинцева к двухтомнику Мандельштама я встретил следующее рассуждение: «Поэтическая система Мандельштама (имеется в виду период написания так называемой «Оды Сталину». — А. К.) дошла до такой степени строгости и последовательности, что она как бы срабатывает сама, отстраняя от себя ложь, независимо от намерения поэта, выступает как объект наблюдения. Поэт может пытаться принудить себя солгать, но его поэзия солгать не может». Если особенно не задумываться, то все сказано верно. Но нет! «Ода Сталину» — это все-таки не поэзия, а стихотворчество, то есть дело, менее всего свойственное такому поэту, как Мандельштам, дело, вызывающее пустоту и пахнущее небытием. Слава Богу, что чуть позже были написаны Мандельштамом в ассоциативной связи с пушкинским «Мне скучно, бес. » спасительные строки:
Скучно мне: мое прямое
Дело тараторит вкось —
По нему прошло другое,
Надсмеялось, сбило ось.
которые Аверинцев, надо отдать ему должное, тоже цитирует, хотя и не предлагает понимать сбитую ось как ложь, пробравшуюся-таки в мир поэта. Оценка «Оды Сталину» должна быть, по-моему, однозначна еще и потому, что ни в предисловиях, ни тем более в школьных или университетских аудиториях не стоит «присевших на школьной скамейке учить щебетать палачей. «. Они свое и так возьмут. «Оду Сталину» перечеркивает «бред овечьих полусонок» «Грифельной оды», а исток их противостояния нетрудно увидеть в другом — в одном из самых стремительных и вневременных стихов Мандельштама:
И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шепот
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.
В этих восьми строчках, из-за которых во многом я и затеял эту статью, освещены необычным светом и русская революция, и наши просторные лагеря (где даже сейчас — полтора миллиона), и осуществляемое на правительственном уровне «грабь награбленное» под видом налогов или денежных реформ, и храмы, восстановленные на деньги сомнительного происхождения, и любовь воров и убийц к поэзии Есенина или Высоцкого, и трагическая гибель этих поэтов, и, может быть, даже то, почему так «незаметно-невнятно» для толпы за последние несколько лет умерли Тарковский, Самойлов, Бродский и еще несколько известных всем вам поэтов, по сути дела составлявших большую часть русской поэзии второй половины XX века. Ведь нельзя же в самом деле считать расплывчатого Рейна в фильме о Бродском серьезной данью памяти великого поэта. Поэтому мне сейчас хотелось бы поговорить о самой сути возражения Мандельштама Пушкину и попытаться прокомментировать наиболее существенные моменты данного стихотворения.
Акмеистов можно с полным правом назвать состоявшимися символистами. Ведь акмеизм, как вы помните, — это в очень большой степени не литературное течение, а «школа вкуса». Символы в стихе могут пониматься и как «модели бесконечных порождений, тождественные с самой моделью», и как «пучок, смысл из которого торчит в разные стороны». Эти два определения слова-символа — научное и поэтическое — очень похожи. С ними, пожалуй, согласились бы и символисты, и акмеисты, но при этом только надо помнить, что символисты НАВЯЗЫВАЛИ поэзии как бы немного не тот тип магии, который естественным образом в ней присутствует, не говоря уже о том, что такие поэты, как Волошин или Сологуб, попросту, как сказал бы Борис Поплавский, «перехамили Богу». И только у Блока — не просто «роман с Богом», а чисто поэтическое «чувство пути» и абсолютный слух, и поэтому высказывание Ходасевича: «Был Пушкин и был Блок. Все остальное — между. » говорит нам о природе поэтического космоса что-то такое, что позволяет даже «Двенадцать» видеть в единстве со всем остальным блоковским творчеством. Никакого противоречия между Пушкиным и Блоком в смысле темы «Поэт и толпа» нет. Поэт в блоковском понимании хоть и соприроден — особенно в «музыке» — толпе с ее «коллективным бессознательным», но до конца не должен эту толпу в себя впускать, и поэтому Блок в «Двенадцати» — скорее невероятный стилизатор языка «толпы», но не может и не должен признавать, как Мандельштам, что «у НИХ вся сила окончаний родовых». Внутреннее слияние с «толпой», которой, если быть точным в прочтении мандельштамовских строк, манипулируют еще просто зверье и полулюди, у Мандельштама отчасти связано со знанием и приятием поэзии Нарбута и Багрицкого (между прочим, в большей степени, чем поэзии Маяковского) с их естественной тягой к земному, чего нельзя сказать о Блоке, для которого даже чувство земной магии того же Волошина было недоступно, точнее, скрыто за завесой его собственного, более пророческого, чем магического, дара 1 . После Блока Мандельштам, быть может, единственный поэт в России, который изначально так же сильно одарен «приемами» волхования, но выбирает пророческий путь, едва ли не сильнее, чем Блок, преображая при этом все предыдущие и даже будущие типы магии слова, включая и пастернаковскую, и цветаевскую 2 .
Акмеисты, внешне легко произнося имена Вийона, Готье, Шекспира и Данте, внутренне более всего настаивают на глубокой живой связи слова и предмета, вещи. Поэтому не так уж трудно найти определение символа, которое полностью соответствовало бы акмеистическому видению мира: «Символ является такой оригинальной и вполне самостоятельной идейно-образной конструкцией, которая обладает огромной смысловой заряженностью или творческой мощью и общностью, чтобы без всякого буквального или переносного изображения определенных моментов действительности в свернутом виде создавать перспективу для их. бесконечного развития уже в развернутом виде или в виде отдельных единичностей. Символ — это САМА ВЕЩЬ, В ЕЕ СУТИ» 3 . Как видите, вполне акмеистично. Но нас интересует еще и тот аспект, что символы составляют органическую ткань мифа, от которого поэзия отличается ТОЛЬКО ТИПОМ ОТРЕШЕННОСТИ. У Лосева читаем: «Поэтическая отрешенность есть отрешенность от факта. Мифическая же отрешенность есть отрешенность от смысла, от идеи повседневной и обыденной жизни По своему реальному существованию действительность остается в мифе тою же самой, что и в обычной жизни, и только меняется ее смысл и идея. В поэзии же уничтожается сама реальность и реальность чувств и действий». Удивительно, как это, не будучи поэтом, Лосев сумел уловить это УНИЧТОЖЕНИЕ. Не простой отказ от реальности, не последовательное изменение этого мира, а именно уничтожение действительности, потому что в душе поэзии есть страшное сомнение в недостаточности любой идеи, если она прямо здесь, у всех на глазах не проходит сквозь смерть и воскресение. Иными словами, в этом мире «путем зерна» человек может пройти только ВСЛЕД за Логосом.
Чтобы вспомнить, с какой силой «срабатывали» мифологические аспекты поэтических произведений до эпохи Мандельштама, достаточно перечитать хрестоматийных «Скифов» Блока, в котором есть описание будущих крематориев, или связанные с ними «Панмонголизм» В. Соловьева и написанное в 1906 году в Париже стихотворение М. Волошина «Ангел мщенья», в которых легко можно увидеть грозные лики современных войн и всех типов террора.
Мир, в котором мы с вами чувствуем себя с каждым днем все более неуютно, мифологизирован не меньше, чем Древняя Греция или Средневековье. Но чтобы попытаться осознать ежедневные «приращения» этой мифологизации, по-моему, лучше всего воспользоваться не «общим ритмом» Шнайдера или архетипом Юнга, а опять-таки русской поэзией. Научиться читать ее так, как она сама того требует, будучи помещенной в сердцевину бессмертной души.
Но прежде чем попытаться ТАК прочитать стихотворение Мандельштама, позволю себе процитировать еще одно высказывание философа, осмысливающее соотношение космоса, человека и творчества. «Миф похож на мир тем, что он сам себе пространство, куда вселиться и где жить. И все же никакой миф не вбирает без остатка мир. Мифу мешает распространиться без конца мелочь, безделка, ерунда, что-то вроде быта, обыденности, но как раз ничтожество этой помехи делает ее такой цепкой. И поскольку первомиф — это разумное живое существо, на все способное, у которого в обзоре, собственно, все, то остается непрояснимым, что же именно не умещается в миф». Не поймешь. Какой-то хаос. Алексей Федорович Лосев иногда называл этот не поддающийся мифу остаток опытом. «Опыт, если его взять в чистом виде, он же страшный. Теперь — опыт упорядоченный. А возьми опыт в чистом виде — это же будет ад. Надо было несводимость, единственность каждой вещи отстаивать не увлекаться сведением вещей в смысловые ряды, остановиться перед упрямством другого сразу, не уламывать его быть тем же. Не надо было радоваться синонимам. » 4 .
Таким образом, рассматриваемое нами стихотворение — живое существо! — в полном соответствии с мандельштамовским эллинистическим пониманием слова как звучащей и говорящей плоти, разрешающейся в событие, говорит нам о том, что, посвящая (то, что СВЯТОСТЬ и СВЕТ до сих пор НЕ СИНОНИМЫ — один из лучших примеров наличия в русском языке довольно часто встречающегося СУЩНОСТНОГО МЕТОНИМИЧЕСКОГО ТОЖДЕСТВА) 5 — посвящая опыт толпе, мы как бы входим в круг цветения, света и праздника (слово «святой» родственно др.-инд. вед. cvantas — «процветающий» и латыш. svinet, svinu — «праздновать») первомифа, где нет еще смертельной вражды Аполлона и Диониса, куда надо пройти нашему миру, чтобы преодолеть ад повседневности и приобрести естественность восприятия мира как ЧУДА. Опыт-Ад должен быть здесь, на земле иератически посвящен в тайны мышления пугливыми шагами, когда остановка (отказ от повтора) и есть усиление смысла пути при восхождении на вершины «акмэ», а не отброшен в дурные бесконечности повторов повседневности.
В том же январе 37-го, когда Мандельштам пишет письмо Тынянову 6 об изменениях, которые ему удалось наконец-то внести в строение и состав «дома бытия» (Хайдеггер) по имени «русский язык», все стихи кружатся около этой темы:
Народу нужен стих таинственно-родной,
Чтоб от него ОН ВЕЧНО ПРОСЫПАЛСЯ
И льнянокудрою, каштановой волной —
Его звучаньем — умывался.
Мне кажется, что для определения этого изменения, которое, кроме того, можно считать и основной тенденцией поэзии XX века, более всего подходит слово сжатие или, если хотите, умение прыгать через бездну. Перечитайте еще раз стихотворение Мандельштама и представьте себе музыку Шуберта и Моцарта, взятую ОДНОВРЕМЕННО с поэтическими образами воды и птиц в стихах известных вам поэтов. Пусть здесь будут и белая магия пены, и черная магия воды Пастернака, и птицелов Багрицкого, и «Горные вершины спят во тьме ночной. » Гете, и «Быть или не быть. » Шекспира, и все, что вы вспомните. Пусть эти стихи будут как бы гениальным фоном вновь случающегося стихотворения. Назовем такое видение вневременным или даже одновременным восприятием отдельных «моментов» всего поэтического мира в духе синтеза так любимых Мандельштамом Бергсона с его теорией времени и Эйнштейна с его теорией относительности, пристальное внимание к которым легко обнаруживается в биографии поэта. И вот эту одновременность вы сталкиваете с другой — с пульсацией и слепой верой толпы, несмотря на всю ее враждебность к поэту. То есть слитым миром природы, человеческого творчества и самого человека вы преодолеваете бездну мандельштамовского быть может. Теперь, даже если вы сделаете вид, что избавились от прозрачного, кристаллографического наваждения самого текста, то в вас замрет хотя бы молчание этого стихотворения, протянувшее от первой строфы ко второй неизмеримое пространство «маленьких вечностей» отдельных слов. В вас, помимо вашего желания, останутся навсегда воплощенные в звуке «символы тех состояний, которые в душе» (Аристотель).
Одновременность создания-восприятия шедевров русской лирики можно обосновать еще несколькими соображениями:
— любое понимание поэтического произведения или, точнее сказать, единение с ним возможно только после знания его наизусть или столь органичного его восприятия, которое будет адекватно такому видению стихотворения;
— не только в повторяемых от строфы к строфе или от стихотворения к стихотворению КЛЮЧЕВЫХ СЛОВАХ, но и в рифмах, ассонансах и консонансах содержится ЗАКОН ТОЖДЕСТВА. А отождествлять следует ТОЛЬКО ТО, ЧТО РАЗЛИЧНО, и смысл любого живого слова есть само это слово, взятое в различии с самим собой. Естественно, закон тождественного различия применим и к звукописи стиха. Иными словами, на всех уровнях восприятия-воспроизведения в стихотворении именно одновременностью снимается проклятие Опыта и его основного механизма — повтора, о котором мы говорили выше.
Таким образом, в любой момент чтения все другие строки и образы не только предстоят перед вашим внутренним взором, но и бесконечное число раз входят в произносимую вслух строку по закону, созданному самим произведением.
Пушкинский стих, к сожалению или к счастью, предлагает читателю диалог на якобы одном языке, в котором между жизнью и искусством лежит пропасть. Причем башня из слоновой кости мало чем отличается от близкой к современности башни из черного дерева. Гармония пушкинского мира легко бы изменила такое положение вещей, если бы не читательское «это-не-про-меня», которое даже в блоковской поэтике устранимо только с согласия самого читателя. От пушкинского-блоковского стиха читатель может спрятаться, например, за иронию, что, собственно говоря, и происходит сплошь и рядом в наши дни с подавляющим большинством как пишущих, так и читающих стихи 7 . Напротив, когда речь заходит о Мандельштаме, то с любых академических высот можно увидеть, что у этого поэта есть принципиальное инобытие Слова, и даже лингвисты не могут систематизировать семантику тропов поэта. Все чувствуют этот отличный от других императив СОТВОРЧЕСТВА ПОЭТА И ТОЛПЫ, который слишком неумолимо вторгается в сознание, оказывается и во внутреннем, и во внешнем мире — «неуничтожим, как ветры и пустыни. «
Мы живем, под собою не чуя страны.
Все, что ты видел, забудь.
Слышу, слышу ранний лед. (Я)
В «Воронежских тетрадях», в создаваемых СКВОЗЬ уже преодоленную смерть стихах расстояние между МЫ-ТЫ-Я преодолевается словом, которое невозможно подделать или вывести в тираж, как слово Маяковского или «пластику» Есенина, так как оно всегда звучит действительно ВПЕРВЫЕ.
При этом надо заметить, что поэзия Мандельштама не столько обладает огромной земной, подробной внешней силой, как у Пастернака или Цветаевой, сколько владеет искусством мгновенных переходов между пророческим и магическим «преображением мира» посредством внутренней точности и глубины. Язык Мандельштама — это язык Одного, умеющего быть Единым.
Пушкин жил в мире другого, более органичного природе отношения к смерти, а не в мире «крупных оптовых смертей» и окончательного забвения чести. Остраннение — отстранение от толпы в девятнадцатом веке не грозило еще катастрофой для всего мира. Мандельштам понимал, что за революцией и Гулагом грядут еще более ужасные вещи, а средства массовой информации будут все сильнее влиять на «коллективное бессознательное». Именно поэтому требование к поэту верить толпе и посвящать ей преодоление опыта становилось для него с каждым годом все более непреложным. И хотя Мандельштам считал скорость развития языка несоизмеримой с развитием самой жизни, но если ему открылось, КАК говорить «заведомо запрещенные вещи», он всеми силами попытался воплотить этот дар.
. Мы будем помнить и в летейской стуже,
что десяти небес нам стоила земля.
В этих двух строчках нет ни одного тропа, ни одного логически преодолимого соответствия. В какой бы житейской или культурной ситуации они ни были произнесены — даже самый беспомощный почувствует требование хотя бы частью своей жизни встать рядом с этими строками.
Любой тип метафорического видения мира, за который так цепляется сомневающееся в бессмертии духа сознание, уступает движению по сущностям, где не только синтаксис, но и значимое слово должно восприниматься как ОСТАНОВКА с целью усиления смысла всего пути 8 . Встреча с Мандельштамом — это всегда то, что кажется невозможным, но случиться она может где угодно. Причем, по-моему, даже для филолога лучше считать, что это именно встреча, а не какая-нибудь ассоциативная связь в развернутом тропе с семантическим сдвигом. Правда, такая «встреча» возможна только у поэтов, которые не занимаются дописыванием уже существующего в мире поэзии, а стремительно уходят в СЖАТИЕ, в «тайную свободу», в жизнь будущего языка. Вот несколько таких «встреч»:
— «Я увидел во сне можжевеловый куст. »
— «Деревья складками коры мне говорят об ураганах. »
— «Не торопи пережитого. »
— «Свиданий наших каждое мгновенье. »
— «Вот и кончена пляска по синим огням. »
— «Камень плывет в земле, здесь или где-нибудь. «
И если вы захотите каким-нибудь приемом цивилизации или дурного социума сделать вид, что этих встреч не существует, то «. ручаюсь вам — себе свернете шею!»
1 Идею противопоставления пророческого и магического, ясного зрения пророка и волхования в поэзии я взял в рукописи статьи Л. Костюкова «Контуры света».
2 Наиболее сильно это видно в вариантах отдельных строк «Стихов о Неизвестном солдате»: «Это зренье пророка смертей. » или » И по выбору совести личной, // По указу великих смертей // Я — дичок, испугавшийся света, // Становлюсь рядовым той страны, // У которой попросят совета // Все, кто жить и воскреснуть должны. «
3 А. Ф. Лосев. Диалектика мифа.
4 В. В. Бибихин. Язык философии.
5 Ср. другие используемые Мандельштамом примеры метонимической тождественности. Например, «сферический — серафический» или чуть ли не ВСЕ рифмы в рассматриваемом нами стихотворении. Конечно, это не обычная звукопись предельно напряженного ассоциативного мышления, а вскрытие механизма приобретения знаний ДО ОПЫТА.
6 «Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь ПОНЯТЕН РЕШИТЕЛЬНО ВСЕМ. ЭТО ГРОЗНО. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре мои стихи сольются с ней, КОЕ-ЧТО ИЗМЕНИВ В ЕЕ СТРОЕНИИ И СОСТАВЕ». Из письма Ю. Тынянову от 21 января 1937 года.
7 Вспомните творчество тех современных поэтов (Гандлевский, Кибиров, Цветков и т.д.), которые обыкновенное заигрывание с читателем, хоть что-то знающим из русской поэзии, превратили в ряд сквозных приемов — центонность, примитивно понятая интертекстуальность, снятие напряжения между ритмом и метром и т.п. Короче — разработали по принципам цивилизации, а не культуры целую «поэтическую» систему различных типов ПОДМИГИВАНИЯ скорее образованному, чем культурному читателю. Но вот прошло чуть более десяти лет — и все это уже просто неинтересно. По-моему, поэзии еще рано делать вид, что РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВЫМИРАЕТ.
8 П. А. Флоренский. У водоразделов мысли. Т. 1. — М., Правда, 1990, с. 205.
Все шрифтовые выделения в цитатах сделаны мной (Авт.).
источник